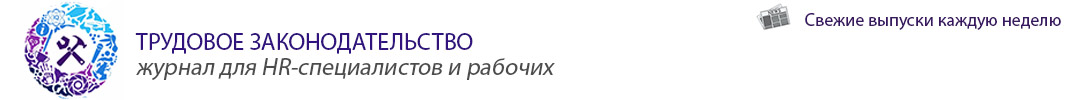Кто такой кобзарь профессия
Опубликовано: 27.06.2024

Кобза́рь (укр. кобзар )– украинский народный певец, представитель эпического жанра, как правило, аккомпанирующий себе на одном из трех инструментов – кобзе, бандуре или колесной лире.
Содержание
Кобзарство как явление
Кобзари, прежде всего, были моральными авторитетами в народе [1] . В народных верованиях кобзарь был персонажем «из-за реки» (т.е. «с того света»). И вместе с персонажами обряда сватанья, а также обрядов Коляды и Маланки, он, как на несколько столетий раньше, волхв, приходил в семью, чтобы «испытать» три поколения на правильность воспитания их предками и правильность воспитания ними своих потомков. Обидеть кобзаря – означало навлечь гнев небес «на мертвых, живых и ещё ненародженных». Поэтому самый бедный крестьянин на Украине всегда держал часть поля «на старцеву дольку» - для подаяния кобзарю (в Беларуси существовала аналогичная традиция относительно лирников). Oбучение кобзаря начиналось с пения псалмов и прошения подаяния без инструмента . И лишь по прохождении данного этапа ученик начинал изучение кобзы, бандуры или лиры. Кобзари были ревностными православными христианами, чтили праздники, в репертуаре имели псалмы и многочисленные религиозные морализаторские песни, а во время “борьбы с религией” в 1920-30 гг в официальных документах даже проходили как “безштатные священники”(орфография оригинала) и “самодеятельный монашествующий элемент” [2] .
Кобзарские цехи
Кобзари, как и представители многих других ремесел на Украине, согласно Магдебургскому праву (с которым основная часть украинских земель была знакома в период с 1324 по 1835 годы) объединялись в цехи. В кобзарских цехах была своя строгая иерархия – от ученика до «панмайстра» или «панотца» (главы цеха). Каждый цех имел свой ареал, как правило, какой-нибудь город или 5-6 сел. Выбирал цех и свою церковь, где, кроме всего прочего, освящались новые инструменты и отмечались начало и конец сезона «кобзаревания», вне которого традицией не приветствовалось уличное пение кобзарей. Начинался сезон на Троицу в северных областях Украины и на Пасху в южных. Заканчивалось кобзаревание везде на Покрову (14 октября). Сами себя кобзари называли “старцами” и относили себя к “просящей братии”. Кобзарский промысел в социальном плане всегда был почетной “нишей” для талантливых и мудрых людей преклонного возраста и инвалидов. В народе считалось, например, что только незрячие могут “смотреть в душу”.
Выступления и репертуар
В репертуаре кобзарей были религиозные псалмы (или псальмы) и канты, морализаторские песни, эпические баллады или “думы” (в т.ч., относящиеся к эпохе Киевской Руси, казачества), юмористические а также т.н. «бытовые» песни и танцы. Состав репертуара определялся местом и временем исполнения. Основными формами «концертной деятельности» кобзарей были уличное и домашнее (в семьях) пение. Эти же формы встречаем и у многих других традиционных певцов мира. Приходя в семью, кобзарь прежде всего общался с детьми, рассказывая им сказки, исполняя детские песни; потом с юношами и девушками, для которых был припасен морализаторский репертуар. И только в конце засиживался со старшим поколением семьи, рассказывая в песнях о старине, исполняя древние псалмы и канты, жалобные и юмористические песни. К традиционным местам кобзаревания можно отнести также церковь (у входа, никогда не в самой церкви), рынок, шинок (трактир) и свадьбу, где появление кобзаря считалось добрым предзнаменованием для молодых. Для каждого из этих мест был свой репертуар: псальмы и канты для церкви, юмористические песни и танцы для шинка, морализаторские песни для приветствия молодых и т.д..
История
Первые упоминания
Первые упоминания о кобзарских «думах» (исторических песнях), как о «песнях о смерти героев» находятся в польских источниках, в частности, в «Анналах» Сарницкого и (1587г.)
Кобзарство в XVI-XVIII ст.
Во времена Запорожской Сечи среди кобзарей много было ослепших и искалеченных в боях казаков. После разрушения Запорожской Сечи и ухода части казаков за Дунай, некоторые из них сами ослепляли себя, брали в руки инструмент и уже кобзарями возвращались в родные края (это был единственно возможный вариант возвращения домой).
Как правило, авторское право для кобзарей было “корпоративным”. Никого из авторов не выделяли и не помнили за редким исключением. К тем, чьё авторство кобзарями все-таки признавалось относятся только два человека - поэт и философ Григорий Сковорода (который подписывал свои стихи “Старец Варсава”) и Тарас Шевченко (впоследствии - Великий Кобзарь). Среди авторов, чьи тексты использовались без их упоминания, были и довольно известные украинские поэты-классики эпохи барокко - Феофан Прокопович и Дмитро Туптало (он же Димитрий Ростовский)
XIX ст.
В ХІХ ст. кобзарей начинают изучать этнографы, к ним просыпается интерес музыкальной общественности. Среди этнографов, изучавших кобзарство как явление находим немало выдающихся деятелей украинской культуры - это и сам Т.Г. Шевченко - выпускник Императорской Академии художеств и Географического факультета Петербургского Императорского университета (как вольный слушатель), и Николай Витальевич Лысенко, представивший “Могучей кучке” кобзаря Остапа Вересая, которая, в свою очередь, познакомила с его песнопениями царскую семью (одарившую О. Вересая знаменитой серебрянной табакеркой с золотой дарственной надписью), и Леся Украинка, записавшая с мужем Климентом Квиткой обширный кобзарский репертуар на восковые валики первых фонографов Эдисона (ныне эти записи хранятся в Библиотеке Конгресса США [3] ).
Мы не знаем, когда человек в первый раз запел. Да и почему он это сделал, что побудило его — тоже неизвестно. Решил ли он излить свою первобытную душу, поведав таким образом о красоте родных краев и теплоте любимой пещеры? Или приободрял себя перед охотой на сильного и страшного зверя? Или же просто хотел чуть согреться длинной, темной и очень зимней ночью? Но так или иначе, это когда-то произошло.
Постепенно нечто, больше напоминавшее звериный рык, превращалось в мелодичный напев. Появлялись музыкальные инструменты, сначала примитивные, вроде выдолбленной из ветки дудочки, затем более совершенные. И наконец однажды певец-любитель решил сделать пение своей профессией. Древнегреческие аэды — народные поэты и певцы — исполняли песни во славу всемогущих богов. Норвежские скальды демонстрировали свое искусство на пышных королевских пирах. Менестрели, трубадуры, миннезингеры, мейстерзингеры ходили дорогами средневековой Европы, воспевая красоту прекрасных дам и отвагу храбрых рыцарей. Казахские акыны устраивали песенные состязания, привлекавшие множество зрителей. А якутские олонхосуты могли по несколько дней и ночей подряд декламировать отдельные поэмы из народного эпоса «олонхо».
В Украине же от села к селу в сопровождении мальчиков-поводырей ходили кобзари. Стоило кобзарю войти в село, как жители тотчас бросали свои дела, чтобы послушать убеленного сединами слепого мудреца. Внимая ему, люди словно своими глазами видели подвиги героев, сражавшихся за счастье родной земли, на глаза наворачивались слезы скорби по павшему в неравном бою с врагами соотечественнику. А когда вдруг радостно звенели струны кобзы, когда начинал певец веселую песню, забывали селяне о своих горестях, отходили куда-то далеко заботы и тревоги и становился мир светлей и лучше.
Когда же появились кобзари на украинской земле? На этот вопрос вряд ли можно дать точный ответ. «История кобзарства в Украине, как и всякая история, не является чем-то ровным, гладким, — писал классик украинской литературы и большой знаток фольклора Павло Тычина. — История кобзарства переживала разные этапы своего развития: нарастания, расцвета и упадка. И в соответствии с этим все время изменялся и сам образ кобзаря — от активного, боевого до подтоптанного нуждой, бедностью побитого, и наоборот».
Предшественниками кобзарей были древнерусские былинники, воспевавшие в песнях походы княжеских дружин и славные подвиги богатырей. В «Слове о полку Игореве» упоминается «соловей старого времени», «вещий певец» Боян — пожалуй, самый известный былинник Киевской Руси. Да и само «Слово…» по сути дела является типичной былиной, просто неизвестный автор записал ее и сохранил для последующих поколений.
Появление же кобзарей большинство исторических документов датирует XV веком. К этому же периоду относится и появление дум — «эпико-лирического жанра украинского словесно-музыкального фольклора», как определяет их «Музыкальный словарь», а проще говоря, речитативных песен, исполняемых кобзарями. Но прежде чем приступить к рассказу о кобзарях, расскажем о происхождении музыкального инструмента, без которого не было бы кобзарства. И параллельно попытаемся внести ясность в вопрос: «Что есть кобза, а что — бандура?». Являются ли эти слова синонимами, или же это два разных, хоть и похожих, музыкальных инструмента?
Версий происхождения слов «кобза» и «бандура» существует немало. «Кобуз», «копуз», «кюбуз» — эти и другие похожие названия музыкальных инструментов встречаются во многих языках тюркской группы. Соответственно, слово «кобза» имеет тюркские корни. «Бандуре» же историки приписывают европейское происхождение. Еще греческие аэды играли на инструменте под названием «пандура». Затем это слово перешло в латинский язык, после — в итальянский, а позже итальянская «бандурра» стала польской и украинской «бандурой».
Что же касается самих инструментов, то здесь большинство историков музыки предлагают следующую версию их возникновения. Кобза представляла собой родственный гитаре и лютне струнный щипковый инструмент, струны которого прижимаются на грифе во время игры. Число струн на кобзе обычно не превышает восьми. Кобза считалась народным инструментом, тогда как появившаяся позже бандура была больше распространена в аристократических кругах. При игре на бандуре струны не прижимаются, общее их количество обычно составляет 12, но на отдельных разновидностях может достигать 25 и даже 50. Кобзу обычно держат слегка наискосок, как гитару, бандуру же обычно ставят вертикально, прижимая к груди, при этом струны перебирают двумя руками. Различаются инструменты и по своим размерам (бандура немного больше), а также диапазоном звучания. Кобзе доступен в основном средний диапазон, тогда как бандура — инструмент более универсальный, на котором можно играть практически любую музыку.
Как видим, кобза и бандура — разные инструменты. Однако все эти рассуждения верны с точки зрения человека, хорошо знающего музыку и устройство музыкальных инструментов. Но в народе эти два инструмента нередко отождествлялись. Недаром в известной казацкой думе пелось: «Кобзо ж моя, дружинонька моя вірная, бандуро моя мальована!» Да и количество разновидностей кобзы и бандуры так велико, что, пожалуй, невозможно провести абсолютно четкую грань между этими двумя музыкальными инструментами.
Как мы уже говорили, первые сведения о кобзарях появляются в XV веке. Расцвет же кобзарства пришелся на середину XVII века и совпал с периодом освободительной войны украинского народа против шляхетской Польши. Тогда же серьезные изменения претерпел и репертуар кобзарей. Жалостливые думы о страданиях украинских невольников в татарском или турецком плену (самые известные из них — о Марусе Богуславке, о побеге трех братьев с Азова и другие) сменили боевые патриотические песни о подвигах героев в борьбе за свободу народа. Появляются думы о Корсунской победе, о походе украинского воинства в Молдавию, о Богдане Хмельницком, Иване Богуне, Максиме Кривоносе. Тогда же в XVII веке возникают первые братства кобзарей, у которых был свой достаточно строгий устав, касса, суд и даже особый язык.
Запись кобзарских дум началась только в XIX столетии. С тех же пор нам известны имена отдельных личностей украинского кобзарства. Высокий с длинными до плеч седыми волосами Иван Крюковский (1820–1885) был не только талантливейшим певцом, но и долго возглавлял кобзарскую общину. Андрей Шут (?—1873) за свою жизнь воспитал более 30 последователей. Виртуозной игрой прославился Федор Гриценко-Холодный (1832–1902), который, как писали современники, «мог босыми ногами сыграть любой казачок». Но самым знаменитым украинским кобзарем был «украинский Гомер» Остап Вересай (1803–1890). Его репертуар был просто безграничным — от древних народных дум до легких сатирических песен. Любимым же произведением кобзаря была «Песня про правду и неправду», за исполнение которой Остапа Вересая не раз арестовывали.
А в 1875 году основатель украинской композиторской школы и знаменитый этнограф Николай Лысенко организовал несколько выступлений Остапа Вересая в Петербурге. С этого момента кобзарство стало известно во всей Российской империи.
Украинское национально-освободительное движение всегда «стояло поперек горла» тем, кто считал Украину своей собственностью. А кобзари всегда являлись яркими представителями этого движения, выразителями стремления народа к свободе. И потому власть никогда не питала большой любви к кобзарям. Но вот выражалась эта «нелюбовь» по-разному. Власть царская пыталась кобзарей приручить, сделать из них нечто вроде придворных шутов, «забавную диковину», которую можно показать иноземным гостям. Не обходилось и без репрессий, но чаще кобзарей попросту покупали. В XIX веке в кобзарском сообществе возникло даже некое подобие раскола. Некоторые кобзари не видели ничего зазорного в том, чтобы выступать перед царями и прочими сильными мира сего. Ведь привозил же Лысенко Остапа Вересая в Петербург, где пел он перед Александром II, за что император подарил кобзарю серебряную шкатулку. Но те, кто считал такие выступления поруганием истинного кобзарского духа, не простили Вересаю этого дара. Кобзари исключили Вересая из своей общины, причем не за то, что взял шкатулку, а за то, что бахвалился перед другими царским подарком.
Пришедшие на смену царям большевики действовали иначе. В 1918–1920 годах были убиты сотни кобзарей, без суда и следствия были расстреляны Иван Литвиненко, Андрей Свидюк, Федор Диброва, Антон Митяй, Свирид Сотниченко, Петр Скидан и многие другие. Преследованиям подвергались не только сами кобзари, но и люди, чья вина заключалась лишь в том, что они давали приют кобзарям.
Понять жестокость большевиков, с корнем уничтожавших все связанное с кобзарством, трудно даже с точки зрения классовой и идеологической борьбы. Казалось бы, что могут сделать слепцы, единственным оружием которых была кобза? Разве по силам им противостоять хорошо настроенной пропагандистской машине, которая день за днем перековывала мозги людей, заставляя их думать по-советски, а не по-украински? Но понимали большевики — крепко засела в народе любовь к своему прошлому, вообще ко всему украинскому. А кобзари издавна были хранителями этой любви, и потому люди будут внимать им, а не заезжим агитаторам-пропагандистам. И потому-то так старались комиссары искоренить кобзарство, порушить вековые традиции украинской культуры.
Однако несмотря ни на что, кобзари продолжали ходить по дорогам Украины. И народ, не желавший становиться «массами», продолжал их слушать. Тогда большевики вызвали «идеологическую подмогу». В газетах была развернута широкомасштабная кампания под лозунгами вроде: «Кобза — музыкальная соха!». К травле кобзарства присоединились и некоторые украинские писатели. Микола Хвылевой требовал прекратить «закобзаривать Украину» и призывал «выбить колом закобзаренную психику народа». Другой известный писатель, Юрий Смолич, писал: «Кобза таит в себе очень большую опасность потому, что она слишком крепко связана с националистическими элементами украинской культуры… На кобзу давит средневековый хлам жупана и шароваров». Не знали тогда Смолич и Хвылевой, что занесенный над головами кобзарей большевистский топор, который они усердно поддерживали, вскоре обернется против них. Многих украинских писателей в 1930-х годах обвиняли в «буржуазном национализме». Поняв, что круг сужается, в августе 1933 года Микола Хвылевой застрелился в своей квартире в знаменитом харьковском доме писателей «Слово».
Но больше всех «постарался» Микола Бажан в своей поэме «Слепцы».
— Пусть Миколе Бажану Бог будет судьей, — говорил в своей статье в газете «Зеркало недели» известный писатель и знаток кобзарской культуры Николай Литвин, — но я как кобзарь и украинец и на смертном одре не прощу ему этих омерзительных строчек:
Помреш, як собака, як вигнаний зайда.
Догравай, юродивий, спотворену гру!
Вірую — не кобзою,
Вірую — не лірою,
Вірую полум’ям серця і гніва…
А в середине 1920-х годов при Академии наук УССР была создана специальная этнографическая комиссия. Занялась она, кроме прочего, и составлением списков украинских кобзарей. Казалось — благое дело, перепишет власть народных певцов, а там, глядишь, начнет помогать им. Но только самые «посвященные» знали, для чего готовятся эти списки. Когда они были готовы, в середине 1930-х годов было объявлено о проведении Первого Всеукраинского съезда кобзарей и бандуристов. И большинство украинских кобзарей приехали на этот съезд. Больше их никто не видел. Это было очень удобно — собрать всех в одном месте и уничтожить. Надо сказать, что чекисты умели заметать следы — никаких архивных документов по этому поводу не обнаружено, и потому до сих пор точно не известны место и время этого «расстрелянного съезда».
Тяжелым катком прошлась советская власть по всей украинской культуре, и по кобзарству в частности. Позже, когда прошло похмелье первых послереволюционных лет, пытались восстановить порушенное, создавали якобы народные ансамбли. И были в них хорошие артисты, но ведь в том-то и дело, что отрабатывали они свой номер за положенный паек и зарплату. А кобзари жили с того, что подадут люди по доброте своей душевной. Чтобы быть настоящим кобзарем, может, и не нужно быть слепым старцем, медленно бредущим за мальчиком-поводырем, но мало просто хорошо играть на кобзе и петь. Кобзарем нужно быть в душе, отдавать всего себя песне. И уметь петь не только за деньги, но и за простое человеческое «спасибо». К счастью, такие люди и сейчас есть в Украине и благодаря им по-прежнему жив кобзарский дух, и пусть медленно, но верно, возрождаются славные традиции украинского кобзарства…

Кобза́рь (укр. кобзар ) — украинский народный певец, представитель эпического жанра, как правило, аккомпанирующий себе на одном из трёх инструментов — кобзе, бандуре или колёсной лире.
Кобзари, прежде всего, были моральными авторитетами в народе [1] . В народных верованиях кобзарь был персонажем «из-за реки» (то есть «с того света»). И вместе с персонажами обряда сватанья, а также обрядов Коляды и Маланки, он, как несколькими столетиями раньше волхв, приходил в семью, чтобы «испытать» три поколения на правильность воспитания их предками и правильность воспитания ими своих потомков [ источник не указан 95 дней ] . Обидеть кобзаря — означало навлечь гнев небес «на мёртвых, живых и ещё ненародженных». Поэтому самый бедный крестьянин на Украине всегда держал часть поля «на старцеву дольку» — для подаяния кобзарю (в Белоруссии существовала аналогичная традиция относительно лирников [uk] ). Oбучение кобзаря начиналось с пения псалмов и прошения подаяния без инструмента. И лишь по прохождении данного этапа ученик начинал изучение кобзы, бандуры или лиры. Кобзари были ревностными православными христианами, чтили праздники, в репертуаре имели псалмы и многочисленные религиозные морализаторские песни, а во время «борьбы с религией» в 1920—1930 годах в официальных документах даже проходили как «безштатные священники» (орфография оригинала) и «самодеятельный монашествующий элемент» [2] .
Кобзари, как и представители многих других ремесел Украины, согласно Магдебургскому праву (с которым основная часть жителей украинских земель была знакома в период с 1324 по 1835 годы) [ источник не указан 95 дней ] объединялись в цехи. В кобзарских цехах была своя строгая иерархия — от ученика до мастера («панмайстра») или главы цеха («панотца»). Каждый цех имел свой ареал, как правило, какой-нибудь город или 5—6 сёл. Выбирал цех и свою церковь, где, кроме всего прочего, освящались новые инструменты и отмечались начало и конец сезона «кобзаревания», вне которого традицией не приветствовалось уличное пение кобзарей. Начинался сезон на Троицу в северных областях Украины и на Пасху в южных. Заканчивалось кобзаревание везде на Покров (14 октября). Сами себя кобзари называли «старцами» и относили себя к «просящей братии». Кобзарский промысел в социальном плане всегда был почётной «нишей» для талантливых и мудрых людей преклонного возраста и инвалидов. В народе считалось, например, что только незрячие могут «смотреть в душу».
В репертуаре кобзарей были религиозные псалмы (или псальмы) и канты, морализаторские песни, эпические баллады или «думы» (в том числе, относящиеся к эпохе Киевской Руси, казачества), юмористические а также т. н. «бытовые» песни и танцы. Состав репертуара определялся местом и временем исполнения. Основными формами «концертной деятельности» кобзарей были уличное и домашнее (в семьях) пение. Эти же формы встречаются и у многих других традиционных певцов мира. Приходя в семью, кобзарь прежде всего общался с детьми, рассказывая им сказки, исполняя детские песни; потом с юношами и девушками, для которых был припасен морализаторский репертуар. И только в конце засиживался со старшим поколением семьи, рассказывая в песнях о старине, исполняя древние псалмы и канты, жалобные и юмористические песни. К традиционным местам кобзаревания можно отнести также у входа в церковь, рынок, шинок (трактир) и свадьбу, где появление кобзаря считалось добрым предзнаменованием для молодых. Для каждого из этих мест был свой репертуар: псальмы и канты для церкви, юмористические песни и танцы для шинка, морализаторские песни для приветствия молодых и т. д.
Первые упоминания
Первые упоминания о кобзарских «думах» (исторических песнях), как о «песнях о смерти героев», находятся в польских источниках, в частности, в «Анналах» Сарницкого (1587 год).
Кобзарство в XVI—XVIII веках
Во времена Запорожской Сечи среди кобзарей много было ослепших и искалеченных в боях казаков. После разрушения Запорожской Сечи и ухода части казаков за Дунай, некоторые из них сами ослепляли себя, брали в руки инструмент и уже кобзарями возвращались в родные края (это был единственно возможный вариант возвращения домой).
Как правило, авторское право для кобзарей было «корпоративным». Никого из авторов не выделяли и не помнили за редким исключением. К тем, чьё авторство кобзарями все-таки признавалось, относятся только два человека — поэт и философ Григорий Сковорода (который подписывал свои стихи «Старец Варсава») и Тарас Шевченко (впоследствии — Великий Кобзарь). Среди авторов, чьи тексты использовались без их упоминания, были и довольно известные украинские поэты-классики эпохи барокко — Феофан Прокопович и Дмитро Туптало (он же Димитрий Ростовский).
XIX век
В ХІХ в. кобзарей начинают изучать этнографы, к ним просыпается интерес музыкальной общественности. Среди этнографов, изучавших кобзарство как явление, находим немало выдающихся деятелей украинской культуры — это и сам Т. Г. Шевченко, выпускник Императорской Академии художеств и Географического факультета Петербургского Императорского университета (как вольный слушатель), и Николай Витальевич Лысенко, представивший «Могучей кучке» кобзаря Остапа Вересая, которая, в свою очередь, познакомила с его песнопениями царскую семью (одарившую О. Вересая знаменитой серебряной табакеркой с золотой дарственной надписью), и Леся Украинка, записавшая с мужем Климентом Квиткой обширный кобзарский репертуар на восковые валики первых фонографов Эдисона (ныне эти записи хранятся в Библиотеке Конгресса США [3] ).


Л. Жемчужников. Кобзарь на дороге (1854)

С. Васильковский. Бандурист с мальчиком-поводырем. Акварель, 1900 г

На фото ХІХ в. Остап Вересай (1803—1890)
Кобзари и бандуристы в XX веке

Учитывая религиозность значительной части репертуара, кобзарей в советское время неоднократно подвергали публичной критике. Кобзу называли «музыкальной сохой» и призывали «искоренить закобзаривание психики». Но, учитывая огромную популярность кобзарей в народе, власти пришлось потрудиться, чтобы исказить кобзарство как явление [ источник не указан 95 дней ] и уменьшить его «тлетворное религиозное влияние» на «трудящиеся массы». Бандура начала «усовершенствоваться» пролеткультовцами и достигла такой степени сложности, что научиться самостоятельно на ней играть было уже просто невозможно. От первого урока до свободного владения довольно сложным инструментом проходило не менее 10 лет. Современная «академическая» бандура достигла веса в 8—12 кг, значительную часть массы составляют металлические детали переключателей, которые стали ещё сложнее, чем у оркестровой арфы. Репертуар выпускника консерватории на начало 2000-х гг. был почти целиком из произведений Баха, Моцарта и Бетховена. Эпических произведений в программе студентов консерваторий и музучилищ не было вообще. В связи с этим возник ещё один термин — «кобзарское искусство» (укр. кобзарське мистецтво ), или «бандурничество» (укр. бандурництво ), обозначающий исполнительство на бандуре без привязки к традиционному кобзарскому репертуару.
В последние годы непримиримые раньше лагеря «традиционников» и «академистов» начали находить точки соприкосновения. В 1996 году на съезде кобзарей Киевский кобзарский цех вошёл в Национальный союз кобзарей, а его представители вошли в руководящие его органы.
Кобзари на сегодняшнее время — одни из наиболее полно изученных эпических певцов в Европе. Записана значительная часть традиционного репертуара, изучены цеховые традиции, хорошо описан инструментарий и имеются даже всемирно известные аудиозаписи наиболее известных кобзарей начала ХХ в., чего, к сожалению, не удалось сделать исследователям многих других эпических традиций — трубадуров, скальдов, менестрелей и миннезингеров.
Возрождение традиции
Все это сделало возможным возрождение кобзарской традиции как явления энтузиастами 1960—1980-х гг. Человеком, начавшим возрождение кобзарской традиции, стал бывший московский архитектор (автор проектов известных московских и подмосковных парков и правительственных сооружений [4] [5] [6] , а в прошлом также преподаватель Московского архитектурного института) Георгий Кириллович Ткаченко. В молодости, учась в Харьковском архитектурном техникуме, он брал уроки у известнейших харьковских кобзарей Петра Древченко и Гната Гончаренко (записанного в свое время на первые фонографы Климентом Квиткой). Выйдя на пенсию в 1960-х, он вернулся на Украину, поселился у своей племянницы в Киеве и начал давать уроки игры на традиционной («старосветской») бандуре — простом и доступном для самостоятельного изучения инструменте. Его ученики впоследствии основали Киевский кобзарский цех [7] , занимающийся изучением кобзарской традиции, реконструкцией инструментов и репертуара.
Первым панмайстром («панотцом») возрожденного Кобзарского цеха стал Микола Будник. Он в одиночку реконструировал 17 типов кобзарских инструментов. Среди них: вересаевская кобза, кобза по Ригельману, различные виды бандур, торбан («панская кобза») и др. [8] .
В 2002 году Кобзарский цех выпустил CD-альбом псалмов и кантов «Кто кріпко на Бога уповая». Музыкальные (в том числе и CD) альбомы есть также и у отдельных его представителей: Тараса Силенко, Тараса Компаниченко,Эдуарда Драча, Владимира Кушпета и его учеников.
С 2008 года Кобзарский цех ежегодно на Троицу проводит свой фестиваль «Кобзарська Трійця» (Кобзарская Троица), который реконструирует традиционное открытие кобзарского сезона.
С 2011 года к работе по возрождению кобзарской традиции привлекаются и незрячие музыканты.
В селе Стретовка, Кагарлыкский район Киевской области, в 1989 году открыт единственный в Украине колледж, где обучают кобзарству [9] .

М. Товкайло, глава Киевского кобзарского цеха, открывает первый фестиваль «Кобзарська Трійця» (Кобзарская Троица) в 2008 году
Лирник Ярема на уличном выступлении первого фестиваля. 2008 г.
Проф. М. Хай открывает научную конференцию, посвященную традиционному кобзарству. 2012 г.
Главы (панмайстры) кобзарских цехов (верхний ряд слева направо) — М. Хай (Львовский), М. Товкайло (Киевский) и К. Черемский (Харьковский цех) с первыми незрячими исполнителями Олександром Триусом и Лайошом Молнаром (нижний ряд, слева направо)
В нём издетства жила неукротимая воля к свободе. Что выразилось потом в творчестве.
Десятилетним мальчонкой Шевченко восстал против злого притеснителя, жестокого учителя-дьяка. Отомстив тому за все побои и надругательства.
Подкараулив однажды мертвецки пьяного, Тарас отмутузил дьячка что есть мочи, связав по рукам и ногам. Затем убёг в порубежную деревню. Захватив с собой лишь книжку с иллюстрациями — единственное богатство. Там были рисунки казаков, шашками изгоняющих французских солдат с Украины в 1812 -м. Там были его первые эскизы-перерисовки: картонками меж страниц.
Их не счесть — русских хохлов, — которые даже помыслить не могли в своей жизни, что кто-то когда-то будет отделять их от российской идентичности: Сковорода, Капнисты, Шевченко, Гоголь, Украинка, Булгаков, им нет счёту…
Вообще если взять чисто хронологически, то сегодня мы отмечали бы 365 -й юбилей воссоединения Украины с Россией.
Речь, конечно, о тринадцатилетней войне с Речью Посполитой за утерянные в смутное время земли.
Январская Рада 1654 г. подтвердила державный переход под русского царя Алексея Михайловича. Коему присягнул Богдан Хмельницкий. И вот эти-то гены социально-национального избавления от иноземщины. Также родства, политого обильной военной кровью, — никуда ни деть, как ни старайся. Ни русским, ни тем более украинцам. Это ж не шутка, согласитесь: — пять веков вместе.
Сочинил и нарисовал, — будучи неплохим художником: — очень немного. Что неудивительно: недолгие годы жизни, десятилетняя оренбуржская ссылка без права заниматься творчеством — тому горькая, печальная порука.
Личность, писания Шевченко всегда овевал некий националистический ореол: космополиты тащат поэта в отряд мужицких бунтарей; реакционеры — лепят из него народного страдальца от русского ига; «Современник» Белинского — хает за местничество, провинциализм; «Современник» Чернышевского-Добролюбова — привечает за демократизм.
Любопытно, что термин «либерализм», «либеральный реформизм» в середине XIX в. соседствовал с идеологемами «мракобесия» — сиречь крепостничества-обскурантизма (Юркевич, Катков, Дудышкин). Воюя в журнально-публицистических сферах с материалистической философией революционных демократов (Писарев, Шелгунов, Антонович). Так же как понятие «пролетария», «пролетариата» означало не «передовой-направляющий», а — обыкновенный нищеброд-христарадник: тёмный затюканный бедный попрошайка.
Полжизни провёл Шевченко в России. Посему видел как бы сверху довольно-таки объёмное эпическое полотно. Эксплицированное в свои отнюдь и отнюдь не «провинциальные» писания. Повлиявшие в дальнейшем на становление народного самосознания-мировоззрения в нарративе неотделимости от великороссов. В нарративе абсолютной неотъемлемости друг от друга надежд и чаяний двух ближайших родственных цивилизаций.
Для более ясной картины скажем пару слов непосредственно об эпохе. Чрезвычайно интересной, напряжённо-переломной. [Хотя какие эпохи в судьбе России не переломные. — риторический вопрос.]
Сначала галопом по Европам. Sub conditione
Первая половина XIX в. стала, как известно, периодом больших потрясений.
Испания с колониями — революция 1820 — 1823 гг.
Греция — национально-освободительное движение 1821 — 1823 гг.
Италия — приснопамятное движение карбонариев.
Франция-Германия — июльский бунт 1830 . Также повсеместное развитие тайных революционных обществ. Далее — громыхнуло в 1848 г.
Англия — чартистское движение.
Всё это оказало колоссальное воздействие на развитие прогрессивной мысли в России: как порождения конкретно-исторических условий освободительной борьбы Западной Европы — в трансформации-приспособлении к условиям русской действительности.
Технический прогресс шагал на Украине даже быстрее, чем в России. Шёл непрерывный рост предприятий (около 2 500 в 1860). Уменьшалась доля помещичьих, росла доля купеческих, — одномоментно сбавляя количество крепостных рабочих в угоду вольнонаёмным. [Это ещё не пролетариат в марксистском изводе: будучи вольнонаёмными по отношению к мануфактуре, трудящиеся оставались у помещиков в оброке.]
Украинские города превращаются в крупные торговые центры — хабы, как бы сейчас изрекли. Приобретая значение всероссийских рынков сырья и сбыта мануфактур. В центр идёт — хлеб. Обратно — продукция обрабатывающей промышленности.
Европейский экспорт и вовсе почти весь шёл через черноморские порты: шерсть, меха; особенно пшеница (95 % всего экспорта Европейской России).
Тем не менее, органически плотно связанная с имперской, украинская экономика так же неимоверно страдала от крепостничества.
Помещики зверствовали. Чувствуя приближающийся, зреющий не по дням, а по часам неминуемый кризис феодальной системы, — чрезмерно поднимали оброк, барщину, повинности. Постоянно сокращая хлебопашеские наделы.
В отличие от общих (относительно благоприятных) статистических данных по промышленности, положение украинских крестьян — намного тяжелее российских: за счёт безраздельного и неконтролируемого (из-за удалённости от центра) господства барщины. [В России — превалировали оброчные отношения.] Отчего скобари превращались в безземельных и бездомных. Что смерти было подобно.
Например, в родном селе Шевченко — Кирилловке (Правобережная Украина) — более 70 % безземельных и даже безлошадных. Отчего с увертюры столетия там не прекращались буйные крестьянские волнения.
Процветала практически работорговля крестьянским людом на рынках: их выставляли на показ будто скот, закованный в цепи. Замученных, измождённых.
В повести «Музыкант» Т. Шевченко обрисовал крайне бедственное положение галаганских подневольных начала 1840 -х. Также в стихотворении, данном во вступлении к тексту «Сраженья были…» из канонического сборника «Кобзарь».
Мало того, вдобавок ко своим «ро́дным панам» Галаганам, скажем, на Правобережной Украине — к угнетателям добавлялись польские шляхтичи: уничтожая к тому же собственно национальную украинскую культуру. Насильственно насаждая католицизм.
Будто галки чёрной стаей,
Ляхи, езуиты
Налетают — ниоткуда
Не видно защиты!
«Тарасова ночь»
Царское правительство держало народ в состоянии почти поголовной неграмотности. В первой половине XIX в. на всю Украину было всего лишь два университета, десять гимназий. Малейшее проявление свободной мысли — беспощадно каралось.
Процветал произвол полицейщины. Именем бога — благоденствовал произвол «жандармов в рясе»: охранявших-освящавших крепостной гнёт и самодержавную деспотию. Всё это потрясающе выразил Шевченко в поэме «Гайдамаки». Вплоть до народной расправы с притеснителями-ляхами.
Кавказ, Прибалтика, Польша (Волынские восстания), Украина (Киевщина — «Колиивщина») — тучно покрыты пожарами крестьянских восстаний. Усиленные апокалиптикой мятежей промышленных трудящихся.
Забастовки на Черниговщине. На Дону. В Харьковской губернии — Чугуев. Херсон. Полтава. Урал — Берёзовские рудники. Екатеринбург. Владимирская губерния — заводы Баташёвых. К середине века число волнений возрастает кратно.
Всё детство и юность поэта овеяны грозовыми всполохами непрекращающихся крестьянских бунтов. А в песнях, — колыбельных и героических: — бережно хранилась память событий Отечественной войны 1812 года. В которой украинцы рука об руку с русскими сражались с Наполеоном.
Известно, что французский фланг вторгся в пределы Волынской губернии. Для отпора врагу сформированы на Левобережной Украине 15. На Правобережье — четыре конных казацких полка. Вошедших в армию А. Тормасова. Плюс ополчение. Всё это Шевченко воплотил потом в рисунках-портретах-натюрмортах. Первыми художественническими опытами были как раз изображения Кутузова и Платова.
Ему исполнилось 11, когда залпы на Сенатской площади покончили с восстанием декабристов. Киев — один из средоточия движения либертарианцев.
Как и все передовые деятели Украины (кружок академика Срезневского), Шевченко испытал на себе пользительное влияние воззрений первого поколения русских революционеров: первых «благовестителей свободы».
В муках, в каторге — не плачет,
Взор с мольбой не кинет!
Раз добром согрето сердце —
Ввек оно не стынет!
«Сон»
Выходец из низов, он прекрасно понимал декабристские ошибки. Соединив впоследствии в творчестве рылеевскую лирику («Наливайка» и др. ), украинскую мечту о бескрайней вольнице. Также авангардные веяния русской идеологии — навроде «Кто виноват?» Герцена.
Императорская Академия художеств. «Отечественные записки» с Белинским. Кружок Струговщикова (Витали, Щедрин, Брюллов, Глинка), плавно перетекающий и перманентно перемещающийся по квартирам графа Виельгорского, князя Одоевского etc. Михаил Петрашевский, в конце концов. [Буквально десяти годами раньше «Великий Карл» Брюллов с Жуковским, Гребёнкой, Григоровичем выкупили юношу-Шевченко у помещика Энгельгардта.]
Дружба с левыми петрашевцами Спешневым, Момбелли. Воззвания, призывы к бунту в России, Малороссии. Знаменитое запрещённое письмо Белинского к Гоголю. Сближение с Костомаровым, участие в его Кирилло-Мефодиевском обществе-братстве. Разгром последнего.
По итогу — ссылка:
Годы творческой зрелости как поэта, философа и политического деятеля относятся к самой мрачной поре дореформенной Империи.
Под мертвящим прессом николаевского деспотизма, под гнётом «внешнего рабства» (Герцен) шёл процесс внутреннего отстранения, «внутренней эмиграции» (Жирарден). Всюду росло недовольство. И острые революционные тезисы за эти страшные годы «владычества прапорщика» разлетелись быстрее и сильнее, чем за целое предшествующее им столетие.
1830—40 -е… Как ни странно, это были величайшие годы в истории России. И на эту тему написаны сонмы диссертаций под условным названием типа «Расцвет культуры под жесточайшим прессом цензуры» (название — моя придумка, — авт. ).
Литература. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов, Тургенв, Достоевский, Григорович, Гончаров, Островский.
Театр. Мочалов, Каратыгин, Щепкин, П. Садовский, Мартынов.
Музыка. Глинка, Даргомыжский, А. Серов, Одоевский.
Живопись. Брюллов, Венецианов, Федотов, Тропинин, Кипренский, Иванов.
Наука. Осиповский, Филомафитский, Рулье, Максимович, Пирогов. Математик Лобачевский. Химик Зинин. Физики Петров и Якоби. Географы Лазарев, Головин.
Гуманитарии. Грановский, Заболотский, Милютин, В. Одоевский.
Естествознание . Куторга, Буяльский, опять же Одоевский (он везде, и таких отечественных энциклопедистов-полигистров в Империи — немало).
Невероятно умножилось влияние литературы — мощной, мощнейшей пропагандистской трибуны. С которой, — вопреки свирепому диктату цензуры, — распространялись в социуме прогрессивные идеи. В авангарде коих, среди многих и многих, стоял питомец блестящего соцветья национальных культур. Ставший выдающимся деятелем передовой демократической мысли. Ведущей непримиримую борьбу с самодержавно-крепостническим строем. Русским украинцем «Кобзарём Дармограем» — Тарасом Григорьевичем Шевченко.
Вот что делают на свете
Людям сами ж люди…
А за что? Господь их знает!
Глянешь — свет широкий,
Только негде приютиться
Горьким, одиноким.
Одному даны просторы
От края до края,
А другому — три аршина,
Могила сырая.
«Кобзарь»
Великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861) является одной из культовых фигур современной Украины. Можно сказать без преувеличения — её духовным отцом.
О «Великом Кобзаре» (именно так нарекли украинцы Тараса Григорьевича после его смерти) слагали предания, ставили пьесы, снимали кинофильмы и писали книги. Одних памятников поэту — 1384 (из них 1256 расположены в Украине; еще 128 находятся в 35 странах мира — там, где есть украинская диаспора). Самый оригинальный памятник великому украинцу установлен в г. Риме (Италия), где Тараса Шевченко изобразили в тоге римского патриция.
В представлении простых людей ОН всегда был кость от кости, плоть от плоти украинского народа. В девяноста процентах изображений поэт одет по-крестьянски: в кожух и смушковую шапку. И даже почтительное прозвище, которое ему дали на Родине, должно свидетельствовать о его народности (кобзарь — народный певец, играющий на кобзе; такое же название носил первый сборник стихов знаменитого поэта). Для многих его почитателей жизнь бывшего крепостного казачка, ставшего знаменитым художником, известным писателем и великим поэтом не только Украины, но и всей Российской империи (!), служила образцом, примером нравственного подвига.
Однако исторические изыскания последних лет поставили под сомнение общеизвестную историю жизни Т. Г. Шевченко.

Памятник Т. Шевченко в г. Риме.
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Было общепринято считать, что Т. Г. Шевченко происходил из, так сказать, малообеспеченной (и многодетной!) семьи крепостных крестьян. Но если факт многодетности семьи Григория Шевченко не подвергается сомнению (всего у поэта было 9 родных и сводных братьев и сестер), то её бедность стоит под большим вопросом.
Дед поэта Иван Шевченко-Грушевский был крепким хозяином и, согласно ревизским спискам, единственный в с. Кириловка, у кого были слуги — Процько и Зиновия.
Отец поэта Григорий Шевченко, как утверждают исследователи, был чумаком. Эти «дальнобойщики» ХІХ в., возившие соль из Крыма, в целом были людьми небедными, а если не злоупотребляли спиртным, то и весьма зажиточными.

Памятник Т. Шевченко в г. Варшаве (Польша). Скульптор отошел от привычного образа поэта и изобразил его молодым и энергичным.
Также заметим, что маленький Тарас, даже став сиротой (об этом — дальше), умудрился выучиться пристойно читать и писать, чем не всякий бедный дворянин мог похвастать.
Нет! Вовсе не бедность семьи была бичом для Тараса в его юные годы. Дело в другом. Над ним висела некая тайна его рождения, которая отравляла ему существование как в детстве, так и после совершеннолетия.
КРЕСТЬЯНСКИЙ БАЙСТРЮК.
Сам поэт в 1860 г. в своей автобиографии писал: «Родился в 1814 году февраля 25. В селе Кириловке Звенигородского уезда Киевской губернии». Кириловка — родина его отца Григория. Однако еще в прошлом веке шевченковеды выяснили, что фактически Тарас Григорьевич родился в другом селе Звенигородского уезда — Моринцах, на родине матери поэта Екатерины Якимовны Бойко, куда в 1813 г. <из Кириловки>переехали жить его родители. Пожив некоторое время в Моринцах, семья Шевченко в 1815 г. вернулась в Кириловку. Этот зигзаг в жизни семьи Шевченко исследователи долго не могли объяснить. Складывалось впечатление, что переезд в Моринцы был нужен лишь для того, чтобы именно там родился будущий гений украинской литературы.
Любопытно, что в метрической книге местной церкви есть запись о рождении поэта, сделанная священником А. Базаринским, причем с помарками. Родителями мальчика указаны Тарас и Катерина Шевченко, но заглавная буква имени матери, изначально написанная как «А», исправлена на «Е», да и следующие буквы написаны поверх некого другого текста («Тысяча восемьсот четырнадцатого года февраля двадцать пятого числа у жителя села Моринец Григория Шевченко и его жены Екатерины родился сын Тарас. Молитвовал и крестил Богословской церкви священник Алексей Базаринский»).
Долгое время на помарку не обращали существенного внимания: мало ли что! Может быть, поп после крестин был немного нетрезв, а потому допустил небольшую ошибку! Однако уже в наше время кто-то вспомнил, что метрические книги дублировались (на случай пожара и т. п. форс-мажорных обстоятельств), а вторые экземпляры хранились в Киевской Духовной консистории. Проверили архивы и — о, чудо! — дубликат метрической книги нашелся! Целый и невредимый! Но еще большая неожиданность ждала шевченковедов, когда они открыли эту книгу. В ней рукой все того же священника Базаринского была сделана запись, что родителями Тараса являются Григорий Шевченко и . его жена Агафья.
Кто такая Агафья? Исследователи провели огромную работу и выяснили, что у Екатерины Шевченко была младшая сестра Агафья, родившаяся где-то между 1793-м и 1796 г.
Вновь открывшиеся обстоятельства позволяют по-новому посмотреть на родословную поэта. Выходит, он был рожден не в браке; а женщина, которую поэт называл матерью, оказалась его родной тетей. Понятно, что в ту пору в крестьянской среде это был грандиозный скандал! И можно только представить, какие страсти кипели в семье Григория!
Немудрено, что семья, чтобы скрыть конфуз (очевидно, по настоянию деда), переехала в другой населенный пункт. Что касается самой Агафьи, то она, как выяснили, вообще была отправлена дедом за сотню верст от родного дома, в с.Лозивок (ныне Черкасская обл.), где впоследствии была выдана замуж и обрела новую семью.
Но вернемся к биографии Тараса Григорьевича. Сделанное открытие поставило перед шевченковедами новые, еще более заковыристые, вопросы. Если Тарас — плод большой любви Григория Шевченко и его свояченицы, то непонятно, почему Григорий довольно холодно относился к своему сыну.
После смерти Катерины Шевченко Григорий женится вторично, на вдове с тремя своими детьми — Оксане Терещенко (по некоторым данным, еще одной родственнице Екатерины Шевченко).
И похоже, что Григорий детей Оксаны любил больше, чем многострадального Тараса. Во всяком случае, перед самой своей смертью, когда ослабевший Григорий делил среди детей свое имущество, то Оксане досталась хата, её детям — овцы, а Тарасу не досталось ничего! Абсолютно!
Якобы умирающий Григорий сказал: «А сыну своему Тарасу. из моего хозяйства ничего не нужно; он не будет простым человеком: из него будет или что-то очень хорошее, или великий лентяй; для него мое наследство или ничего не будет значить, или ничем не поможет».
Кто-то видит в этих предсмертных словах отца поэта предвиденье его великой судьбы. А кто-то — неимоверную жестокость, когда неокрепшего подростка бросили в омут житейских проблем без копейки денег. Став круглым сиротой, мальчик был вынужден сам зарабатывать себе на хлеб: пасти скот, батрачить, помогать местному дьяку отпевать усопших (благо Псалтырь Тарас выучил наизусть!) за «десятую копейку».
ДВОРЯНСКИЙ БАСТАРД.
Итак, версия об отцовстве Григория Шевченко ставится под вопрос. Но кто тогда приходится отцом поэта? Первое, что приходит в голову (и что весьма и весьма возможно, учитывая куртуазные нравы той эпохи): отцом ребенка мог быть хозяин семьи Шевченко, помещик Василий Васильевич Энгельгардт (1755 — 1828), племянник светлейшего князя Потемкина-Таврического, богатейший человек Украины, владелец 50 тысяч десятин земли и 100 тысяч крепостных.
Чему удивляться? У императрицы Екатерины Второй было не менее трех (!) внебрачных детей. У Энгельгардта от некой «польской княжны» было пять детей: Андрей (1780-1834), Василий (1785-1837), Александра (1787-1808), Екатерина (1797-1818) и Павел (1798-1849; он же станет хозяином поэта после смерти отца). И при этом он оставался. холостяком! Правда, своих <формально незаконнорожденных>детей в 1801 г. он усыновил и обеспечил достойным наследством.
В то время нередки были случаи связей помещиков со своими крепостными. Великий российский поэт В. Жуковский (учитель А. С. Пушкина и цесаревича Александра ІІ), человек, помогший впоследствии Т. Шевченко выкупиться из крепостной зависимости, был сыном дворянина и пленной турчанки. Да что там! Сам А. С. Пушкин имел связь со своей крепостной Ольгой Калашниковой, в результате которой на свет появился мальчик Павел (к сожалению, умерший во младенчестве).

Василий Васильевич Энгельгардт (1755 — 1828)
(Любопытно, что знаменитый художник Карл Брюллов, впервые увидев молодого Тараса, был поражен его «не мужицким» лицом.)
Так что вполне вероятно, что семнадцатилетняя горничная Агафья Бойко приглянулась или самому сластолюбивому помещику, или кому-то из его сыновей — ибо мало сомнений, что юная неопытная крестьянская девушка не могла быть увлечена молодым господином, да еще в офицерском мундире.

Т. Шевченко. «Катерина», 1842 г.
Хочется отметить, что через все раннее творчество поэта красной нитью прошла тема о «покрытке» — бедной простой девушке, соблазненной, а потом брошенной офицером российской армии (которых в ту пору на Украине величали «москалями»; позже, забритый в солдаты, Шевченко сам стал «москалем». «. І я тепер точнісінький, як той москаль. » — писал он другу А. Лизогубу из Орской крепости).
После освобождения из крепостной зависимости Шевченко посвятит своему благодетелю В. Жуковскому одну из своих лучших поэм «Катерина».
Да, ту самую: «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. ». А в 1842 г. напишет картину «Катерина» как иллюстрацию к оной поэме. На переднем плане изображена крестьянская девушка — с уже намечающимся животиком; а вдали бравый улан (гусар?) скачет прочь.
Надо сказать, что мелодраматичность в поэтическом творчестве Т. Шевченко сыграла важную роль в его популяризации (ныне вся киноиндустрия держится на историях о «брошенных-больных-беременных-без денег-без образования-безработных-барышнях», которые чего-то там добиваются.
Похоже, Великий Кобзарь был у истоков этого тренда. А сколько женских слез было выплакано над «Катериной», один Господь ведает!
Но вернемся к Т. Г. Шевченко и В. В. Энгельгардту-старшему. Проведенная в начале 2000-х физиогномистическая экспертиза портретов Т. Шевченко и его помещика не дала решительного ответа об их предполагаемом родстве. Скорее поставила это родство под сомнение. Шевченковедам пришлось довольствоваться этим: за неимением гербовой, как известно.
Читайте также: